В. В. Колесов
Русская ментальность в языке и тексте
стр. 291
благодаря идее двухуровневого мира, в котором мечется неприкаянная душа, мы далеко отошли от древнерусской основательности, отреклись от вещи в пользу слова, а теперь уже и во имя идеи. Аристотелевская «золотая середина» в колебаниях между крайностями в терминах науки отложилась, но в душу как-то не запала. Отличаем гордыню от гордости, но вот «среднего» между ними, самой добродетели, и не знаем. Нет и «среднего человека», хотя отовсюду слышим, что русский человек по природе своей — середняк. «Средний человек» сегодня — статистическая единица, а как тип, взятый для наблюдения, представляет собою процесс, отмечающий постоянные колебания между тем и этим. Однако крайности ему свойственны больше. В крайностях — жизнь, середина же — идеал — есть просто идея.
О недостатке у русского человека «средней степени культуры» говорил и Николай Лосский, находя ее следы разве что у старообрядцев, сохранивших прежний уклад русской жизни, в том числе и в отношении к середине— к сердцу. Об этом много раз писал Ключевский в лекциях по древней русской истории, и иные многие писали тоже.
Напротив, современные философы не приемлют «середнячка». Николай Бердяев подчеркивал устремленность русского характера и натуры-чувства к крайностям, исключающим «бездарность относительного среднего» [Бердяев 1918: 25]. Еще раньше Константин Леонтьев жестко выразил ту же мысль: именно на Западе буржуазный идеал — это средний человек (см. также: [Зень-ковский 1955: 150]). «Замечательная русская черта,— записывала в своем дневнике Зинаида Гиппиус [I: 422],— непонимание точности, слепота ко всякой мере. Если я не „жажду победы"— значит, я „жажду поражения"... то „или— или", какого в жизни не бывает». «Окончательность (неполовинча-тость)» русского человека отмечал и Василий Розанов. Попытки отнести это к «языческим» остаткам русской натуры вряд ли справедливы. Это ветхозаветная мудрость, веками навязываемая со всех амвонов: «и первые станут последними», «и тот, кто не с нами, тот против нас»...
Тут-то и возникает противоречие в понимании самого явления. Мы ведь тоже смотрим на предмет с определенной точки зрения, совсем не так, как смотрели предки, а, скорее, со стороны готовой уже, вызревшей идеи мы всматриваемся в соотношение между словом и делом (вещью—идеей).
С точки зрения идеи подчеркивается, например, инерционность чувств русского человека [Касьянова 1994: 122 и след.]. Замедленная реакция на конкретное действие, на дело («задним умом крепок»), но немедленный отзыв на слово. Не сосредоточенность серьезного движения чувств, а заменяющее ее упрямство; гнев, веселье, отвага — русский не сразу выходит из состояния аффекта, вызванного словом. Очень верное наблюдение, и оно о том же: реактивность отношения слово—идея и известная заторможенность в соотношениях слово— дело, дело—идея во взаимных их соответствиях, создающих реальность действия (по-научному выражаясь, «реакций на сигнал»):
|
идея |
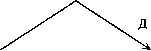 |
ело (соединяет идею и вещь) слово вещь
Обратным ходом мысли таков ответ на русский реализм, согласно которому выше идеи нет ничего, а идея дана — в слове.

 © Издательский дом "Наше время"
© Издательский дом "Наше время"